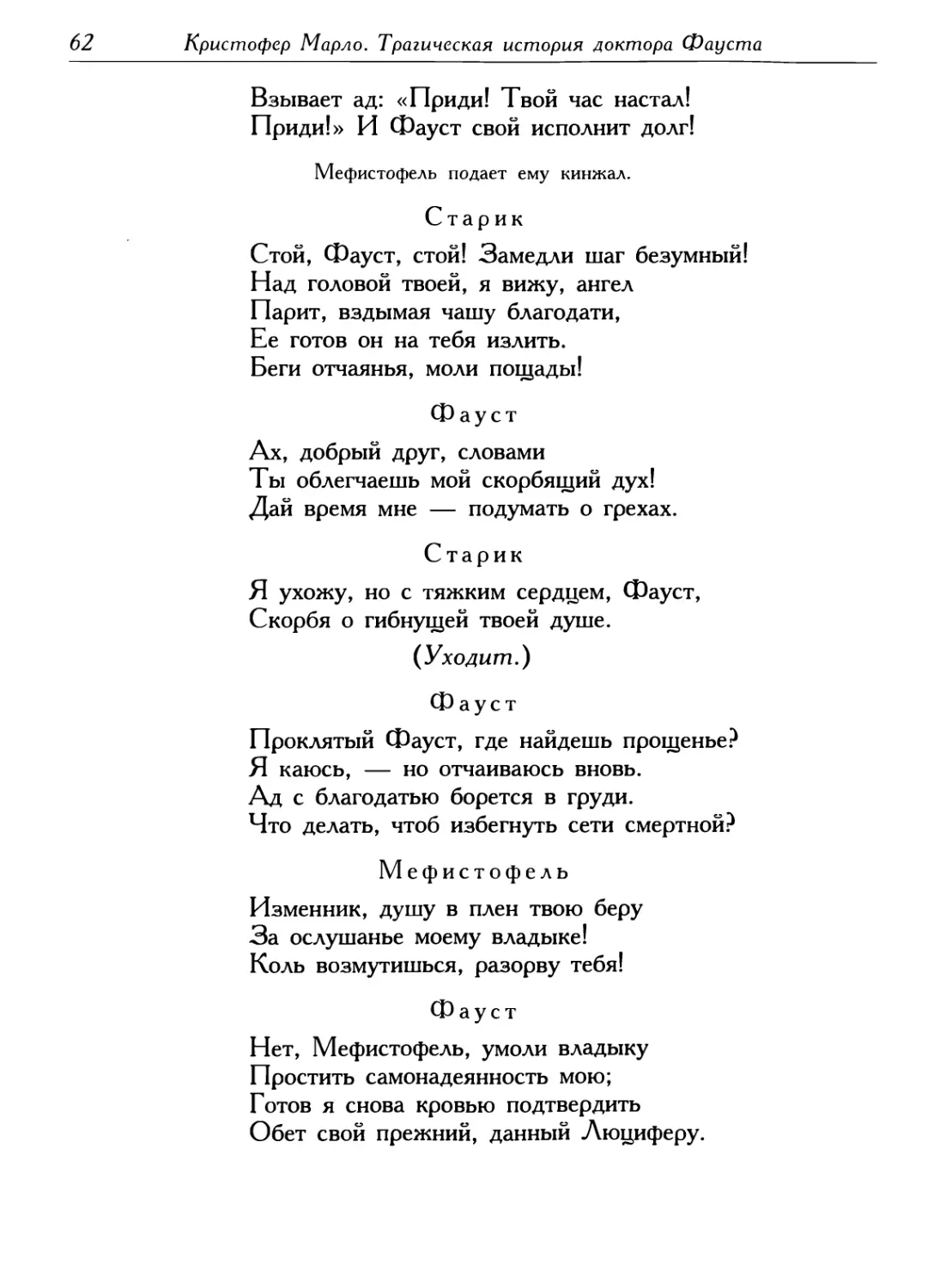На съемках фильма «Кэрол»
На съемках фильма «Кэрол»
— Что вас привело сюда, на этот небольшой фестиваль, о котором почти никто ничего не знает?
— Молодежь, которая приезжает из разных стран. Общение с молодыми дает мне больше, чем я им во время мастер-классов. И потом, знаете, мне больше нравится существовать в области некоммерческого кино, основанного на личном опыте, а не на технических открытиях.
— Ваша работа в кино впечатляет. Ваши отношения с камерой невероятны: благодаря вашему видению мира и мы открываем для себя что-то новое. Скажите, а что вы ждете, когда подходите к камере?
— Во-первых, я не думаю ни о чем, что связано с технической стороной. Для меня работа начинается с моего восприятия окружающего мира. И передать все то, что я встречаю в нем, мне проще при помощи камеры. Даже здесь, в Эшпинью, я прогуливаюсь по городу с карманной камерой. Она — продолжение моих мыслей, моего мировосприятия. Но, конечно, любое изображение субъективно, и так вы, зрители, понимаете, что снимал именно я. Что же касается технической стороны дела, то я не очень-то продвинутый в этом смысле.
 Эдвард Лахман
Эдвард Лахман
— Именно поэтому вы любите снимать исторические фильмы?
— Вы так думаете лишь потому, что мы с Тодом Хейнсом снимали картины, действие которых происходит в прошлом («Кэрол» и «Мир, полный чудес» — прим. ред.). Но мне куда более интересно работать над каким-нибудь объектом из тех, что окружают меня здесь и сейчас. Наверное, это пришло из документалистики и навеяно творчеством фотографов, которые меня вдохновляют: Роберт Франк, Ларри Кларк и Картье-Брессон. Что же касается работы с Тоддом, то он использует визуальный язык как метафору и не просто так возвращается в прошлое. Ощущения правды как в мини-сериале «Милдред Пирс», так и в «Кэрол» мы достигали через изучение фотографий того периода. Мы пытались понять, как авторы передают окружающую среду и время. И это намного интереснее, чем движущиеся картинки архивных видео.
 Эдвард Лахман и Тод Хейнс
Эдвард Лахман и Тод Хейнс
— Но при этом в разных фильмах вы можете один и тот же период показывать по-разному. Взять хотя бы «Кэрол» и «Вдали от рая».
— Это правда. Потому что именно в работе над «Кэрол» мы основывались только на фотографиях середины прошлого века. Мы смотрели работы Рут Оркин, Хелен Левитт, Эстер Бабли и поздние снимки Вивиан Майер. Все они — нью-йоркские художники, снимавшие городские будни. И что важно, они оставили много цветных работ. То есть, понимаете, революция заключалась в том, что до них цвет использовали только в студиях для коммерческих фото, а эти ребята начали снимать город. В общем, объединив впечатления от старых фотоснимков, а также ощущения от книги, мы постарались в визуальных образах воплотить и дух эпохи, и те чувства, которые испытывают люди, когда не могут открыто выражать свои чувства. Да, конечно, это субъективное восприятие и книги, и эпохи.
— Весьма и весьма субъективное.
— Для нас эмоции были важнее исторической правды. Поэтому мы использовали формат Супер-16: зерно в кадре выводит эмоциональность на другой уровень и делает фильм больше, чем просто историей о двух лесбиянках. Не будем также забывать, что и Патриция Хайсмит, автор романа, в своих статьях и интервью часто говорила о субъективном разуме. Так о какой объективности может идти речь? Только визуальная метафора, только эмоции.
— Когда вы поняли, что хотите говорить лишь с помощью камеры?
— Мой отец был фотографом-любителем. Поэтому в детстве я ненавидел камеры (смеется). Мне казалось, что они отслеживают и затем крадут твою душу. Но потом начал понемногу снимать, потому что во время каникул мы много путешествовали по Европе, так как компания моего отца была во Франции.
— Вот почему вы так часто сейчас работаете в Европе…
— Да, я всегда чувствовал некую связь с Европой. Даже более сильную, чем с Америкой. Я учился в Гарварде, изучал историю искусств. И именно там мы часто обсуждали фильмы. Мне нравилось. Меня увлекало то, как эти изображения существуют на экране…
— Помните, какой фильм поразил вас больше всего?
— Это был «Умберто Д» Витторио Де Сика. Итальянский неореализм, в котором изображение было важнее диалогов. Мне ужасно понравилась эта идея и захотелось создавать истории, понятные без слов. Тогда же я понял, что как живописец я должен буду потратить годы для разработки собственного стиля, узнаваемого почерка, а с камерой я могу намного быстрее визуализировать то, о чем я думаю. Мне как-то сразу стало все понятно с глубиной, формой, цветом, фактурой — всем тем, что камера может передать. Я стал снимать портреты и людям нравилось, так как снимая их, я думал о той или иной школе живописи, о той или иной эпохе. Я начал рассказывать истории…
 Эдвард Лахман на открытии галереи «Galerie Cinema», посвященной фотоработам режиссеров
Эдвард Лахман на открытии галереи «Galerie Cinema», посвященной фотоработам режиссеров
— Этим и до сих пор занимаетесь…
— Да. Но тогда я создавал свой личный микрокосмос. Модели были довольны и просили снова и снова сфотографироваться. Таким образом, совершенно неожиданно, с помощью знакомых и не очень людей я научился снимать. А затем в мою жизнь пришло кино, которое позволило зарабатывать на жизнь и платить по счетам (смеется).
— Но почему вы не стали режиссером?
— Честно? Мне нравится работать постоянно, и оператор имеет такую возможность. Режиссер же вынужден проводить годы с одним проектом. Это не для меня.
— Но если посмотреть ваши фильмы с Хейнсом, то вы немного режиссер.
— Тодд тоже выпускник школы искусств и тоже изучал эстетику образов. У нас очень схожие взгляды на изображение. Та же история Полом Шредером и Дэвидом Бирном, с которыми я работал. Мне повезло общаться с режиссерами, которые чувствуют картинку. Вообще, раз уж мы чаще всего вспоминаем о Тодде Хейнсе, не стоит умалять его роль при создании картин. Ведь именно он выбирает объективы и прочие прибамбасы. Техническая сторона, как я уже говорил, — не мой конек.
 Эдвард Лахман и Тод Хейнс
Эдвард Лахман и Тод Хейнс
— Можете сравнить работу в Штатах и в Европе?
— Европейцы снимают на родном языке, что делает кинематограф более разнообразным. Фильм Вендерса отличается от фильма Бертолуччи, а работы Зайдля от картин Фассбиндера. В Америке мы снимаем с оглядкой на монтаж. У нас существуют определенные правила, согласно которым нужно рассказывать историю. К счастью, есть такая штука, как независимый кинематограф. Например, меня порадовал Шон Бэйкер, снявший на мобильник фильм «Мандарин». Отсутствие денег вкупе с хорошими идеями дает отличный результат. Камера становится точкой зрения, а не опцией.
— Когда вы смотрите фильмы, над которыми работали, что вы видите? Ведь это уже результат после монтажа…
— Я бы так сказал: чем больше времени прошло между съемками и премьерой, тем больше шансов взглянуть на все по-другому. Если же картина выходит почти сразу, то мне сложно абстрагироваться. Но я всегда говорю, что мы, операторы, начинаем съемки с какими-то определенными идеями, не зная, сработают они или нет. Монтаж обычно выявляет наши удачи и неудачи.
— Случалось ли такое, что вы были стопроцентно довольны результатом?
— Случалось, что я работал над чем-то, чего сам не понимал до конца. И случалось, что я не знал, выстрелит та или иная идея или нет. Радовался, когда выстреливало. Но знаете, что я понял с годами? Что аудитория завершает фильм. Именно зритель подхватывает и чувствует картину или нет.
 Эдвард Лахман и София Коппола на фестивале First Time Fest
Эдвард Лахман и София Коппола на фестивале First Time Fest
— В конкурсе Канн этого года был фильм «Мир, полный чудес», который вы снимали с Тоддом Хейнсом, и был новый фильм Софии Копполы «Роковое искушение». Она — одна и немногих женщин-режиссеров, с которыми вы сотрудничали. Как проходила работа над «Девственницами-самоубийцами»?
— О, София обладает тем чувством визуального, которое я так ценю в режиссерах. И я благодарен ей за то, что она дала мне карты в руки при создании двух миров: девочек-подростков и юношей, которые пытаются понять женский мир. И было здорово работать над историей, которая разворачивается в 70-е с моим любимым зерном на экране. И если вы смотрели фильм, то, возможно, заметили, что мир девушек весь голубовато-холодный, замкнутый в доме-тюрьме. А мир юношей тепло-нейтральный и оптимистичный.
 Кадр из фильма «Девственницы-самоубийцы»
Кадр из фильма «Девственницы-самоубийцы»
— Цвет, цвет, цвет…
— Да, потому что я изучал живопись. И для меня цвет — возможность передать эмоции. Я когда-то почитал статью на тему того, как цвет воздействует на аудиторию, и мне хотелось реализовать это на деле.
— Какой фильм был для вас самым сложным?
— «Мир, полный чудес». Потому что действие происходит в 20-е годы, и в 70-е. И это фильм о том, как можно слышать глазами. Получается, что, в какой-то степени, речь в картине идет об открытии кинематографа. Хотя фильм «Меня там нет» тоже был непростой. Во-первых, черно-белая история. Во-вторых, в ней смешалось все от французской новой волны до итальянского неореализма и кино эпохи модернизма. Мы создавали не только разные взгляды, но и разную эстетику.
— Нельзя не спросить о Ларри Кларке. Вы сказали, что любите его фотоработы. Но вы еще и выступили как сорежиссер фильма «Кен Парк». Расскажите об этом сотрудничестве.
— Мне всегда нравилось, что Ларри Кларк документирует свой личный опыт. Пятнадцать лет назад мы познакомились в австрийском Грасе. И за ужином я сказал ему: «Ваши книги очень важны для меня, они как фильмы, как история на одной странице. Вы должны снять кино». Таким образом, я стал первым, кто разбудил в нем интерес к кино. Я спросил, есть ли у него подростковый дневник? Оказалось, что там много о конькобежном спорте. Я тоже увлекался коньками в юности. Короче, мы решили сделать фильм вместе. Так постепенно родился сценарий и картина…
— Кто из режиссеров для вас пока что неизученная книга?
— Я не должен этого говорить, но скажу — Ульрих Зайдль. Пусть это не мой язык, но я могу подключиться и внести свой вклад в создание произведения. Мы сделали вместе четыре фильма («Импорт-экспорт», «Рай: Любовь», «Рай: Надежда», «Рай: Вера» — прим. ред.), и каждый раз для меня это что-то новое и непостижимое.